Запыхавшаяся, раскрасневшаяся Вика вбежала в квартиру и с порога крикнула:
— Мамочка! Я получила первое место на литературном конкурсе! Мой рассказ выиграл! Ой, нет, я выиграла со своим рассказом! Я тебе его сейчас прочитаю!..

— Так, ты не кричи,
во-первых, спокойнее надо говорить, — ровным назидательным тоном ответила Марина Григорьевна, не выходя из комнаты, —
во-вторых, разденься, не из коридора же ты будешь мне читать свои безумные
про-из-ве-де-ния.
— Да, да, мамочка, я уже готова. Ты садись, а я тебе буду стоя читать, здесь всего два листа. — Вика не могла сдержать переполнявших её радостных чувств. Она просто сияла. — Представляешь...
Она не договорила. Марина Григорьевна, не обращая внимания на
радостно-возбуждённую пятнадцатилетнюю дочь, молча прошла мимо неё и вышла в прихожую.
— Вика! — крикнула как на плацу мать, — иди сейчас же сюда! Что это такое?! Сколько раз тебе говорилось, что пальто надо сразу вешать на плечики, а сапоги вытирать насухо губкой! Я устала уже повторять эти правила. Неужели так трудно запомнить, Вика!
— Мама, ну я же сейчас ухожу в кружок. Я потом, когда совсем приду, сделаю всё так, как ты говоришь. Ну, мамочка, ну послушай, пожалуйста, я быстро.
— Быстро только кошки родят. Иди, вымой руки, вернись, приди в себя и читай.
Вика бегом побежала в ванну. Через минуту она стояла посередине комнаты, держа в руках два тетрадных листа.
— Сядь, что ты как на трибуне.
— Ой, мама, я волнуюсь, вдруг тебе не понравится. Ты же мой главный слушатель.
— Мне и так не понравится, я знаю. Что ты можешь написать, если ты даже вещи свои не можешь класть на место, с грязными руками начинаешь по квартире ходить. Ладно, что у тебя там за опус, читай, я пока бельё гладить буду.
Вика грустно посмотрела на мать, на мелко исписанные листы, опять на мать, вздохнула.
— «Незатейливый рассказ», — начала она негромко, боясь, что Марина Григорьевна заставит её говорить ещё тише, и ещё более подавит и без того тающее желание дочери читать.
— Боже мой! Что за
название-то ты придумала? Фантазии не хватило, что ли? Просто пошлость
какая-то, Вика!
— Мама! — чуть не плача сказала дочь, — да ты хоть послушай сначала, а потом «обсудишь меня». Ну, пожалуйста, не перебивай!
— Хорошо, читай, только у меня осталось пять минут, тётя Лена звонить будет по межгороду, приехать к нам хочет. Я её, кстати, попрошу, чтобы она мне сервиз чайный привезла, у них же там такие хорошие сервизы, и недорогие. Как ты думаешь, чисто белый брать или с
каким-нибудь рисунком? Вика, я спрашиваю тебя, между прочим, а не монолог веду от первого лица. Что ты смотришь на меня, глазами, полными печали?
— Мне надо идти. Меня уже ждут. Я не могу ребят подводить. — Вика говорила
тихо-тихо, машинально складывая листочки.
— Иди! — с вызовом сказала Марина Григорьевна. — Зачем тогда было отрывать меня от дел?!
Вика вышла из комнаты, торопливо оделась. Тихо щёлкнул дверной замок. Одновременно в квартире раздался громкий телефонный звонок и
сладко-елейное «Ал-ло! Приве-е-ет, дорогая...»
* * * *
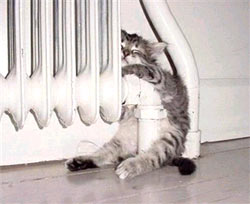
Марина Григорьевна, положив трубку после получасового разговора с тётей Леной, не спеша направилась на кухню: настало время ужина. Вика ещё не вернулась из школы, муж — из очередной командировки. Старый кот развалился у батареи, вбирая в себя тепло чугунного друга.
Последнее время ей очень не нравилось ссориться с дочерью, потому что Вика всё чаще после таких «невзаимопониманий» уходила в себя, замыкалась и могла не разговаривать с матерью по нескольку дней. А Марину Григорьевну такое положение дел не устраивало. Когда дочь была маленькая, после таких нравоучений она первая приходила и мирилась. А теперь, став подростком, уже не так охотно и не так быстро шла на перемирие: Вика не всегда считала себя неправой. Но маме этого было не доказать. Да и как можно было с мамой спорить, если она не терпела возражений в принципе.
«Не слишком ли я строга к Вике? Может быть, такая муштра нужна только мальчику?» — иногда Марина Григорьевна задавала себе эти вопросы. И сама же на них отвечала: «Нет, нет, всё правильно. Потом, в жизни, ей будет легко, потому что порядок приветствуется всегда и везде».
Незаметно пришла Вика. Повесила пальто на плечики, вытерла сапоги, вымыла руки, переоделась и села ужинать.

— Где ты так долго была? — Марина Григорьевна строго, но «без нажима», задала вопрос.
— В литкружке.
— Так долго?! Почему?
— Мы обсуждали рассказ Тони Фёдоровой.
— Ну, а твой рассказ?
Всё-таки — лучший?
— Да.
— Так ты прочтёшь мне его?
— Да, прочту. Только... я его в школе оставила. Я завтра тебе его прочту.
— Завтра, так завтра.
Мама и дочка разошлись по комнатам. Одна — смотреть телевизор, другая — делать уроки.
Закончился один сериал, начался другой. Марина Григорьевна вышла «на перерыв» — глотнуть чайку. Проходя мимо комнаты Вики, она заметила, что у дочки ещё не выключен свет, хотя было поздно, и обычно в это время Вика спала.
«Уснула и забыла выключить свет! — с раздражением подумала Марина Григорьевна. — Сейчас разбужу, пусть встаёт и выключает. Что за халатность?! Сейчас — свет, потом — газ или воду забудет выключить!»
Резко распахнув дверь, она воинственно шагнула в комнату и не менее резко остановилась, увидев, что Вика сидит за столом и
что-то быстро-быстро пишет в тетрадке.
— Ты... что, ещё не закончила заниматься? — удивилась мать.
Вика чуть вздрогнула, прикрыла руками написанное и несколько испуганно ответила:
— Да, то есть, нет, я... мне немножко осталось. Я сейчас... Ты
что-то хотела спросить?
— Нет, я ничего не хотела спросить. Я думала, что ты забыла погасить свет и уснула. Не забудь выключить! Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, мама.
* * * *
Тревожные сны снились в эту ночь Марине Григорьевне. Она ворочалась, просыпалась, вставала, шла на кухню и пила то валерьянку, то успокоительный настой из трав, снова засыпала, и снова повторялось то же самое. И так до утра. Она не могла понять причину такого беспокойства. Всё, вроде бы, шло нормально: и дома, и на работе, и с родителями и родственниками не было никаких проблем. Даже кот последнее время не раздражал. Может быть, Вика была причиной материнского волнения?
«Надо успокоиться, надо успокоиться. Утро вечера мудренее», — успокаивала себя Марина Григорьевна, подходя к окну в спальне.
В унисон неспокойному настроению женщины бушевал северный ветер. Кроны выросших за пятнадцать лет, что семья Марины Григорьевны жила в этой квартире, деревьев шумно раскачивались, и при сильных порывах ветра можно было прямо из окна дотронуться до их верхушек.
— Темно как в ноябре, а до него ещё один целый день, — вслух сказала Марина Григорьевна.
* * * *
— Вика, вставай! — Марина Григорьевна, проснувшись, постучала три раза в стену.
Она тяжело поднялась после бессонной ночи, хмурых мыслей. От непонятных переживаний лицо выглядело суровым. Через час уже нужно выходить на работу, а в «норму» никак не прийти.
— Вика! — армейским поставленным голосом крикнула мать. — Вставай! Надо вовремя домой приходить и вовремя спать ложиться, а не досыпать утром по пять минут! Ты слышишь?!
Дочь не могла её слышать, потому что она ушла задолго до того, как мама постучала в детскую. Но Марина Григорьевна этого не знала, а зайти в комнату, наверное, не догадалась.
...Когда Вике исполнилось пять лет, её торжественно,
«по-взрослому», как говорила девочка, переселили от родителей в маленькую комнату. Эту комнату стали называть «детской». Вполне логично. Вика выросла, стала почти взрослой. По крайней мере, мама довольно часто внушала дочери, что она уже взрослая и должна: отвечать за свои поступки, вести себя соответственно своему возрасту, принимать разумные, а не безумные решения и так далее. Но, невзирая на все перемены в жизни планеты, страны, города и квартиры в целом, комната продолжала называться «детской»...
— Вика! Сколько раз я... — толкнув дверь в комнату дочери, Марина Григорьевна намеревалась, видимо, сообщить дочке то количество раз, которое она потратила на обращение к ней, но увидела лишь аккуратно застеленную, как всегда, тахту и полностью открытую, несмотря на холодную погоду, форточку.
— Вика, ты где? — голос прозвучал растерянно, тише обычного.
Марина Григорьевна подошла к письменному столу дочери. Может быть, Вика оставила записку? Может быть, сегодня в школе политинформация? Её всегда проводят до начала первого урока, «нулевой урок» — так называют в школе это мероприятие. Может быть, поэтому дочь так долго вчера занималась?
Нет, никаких признаков записки она не нашла. Медленно обведя взглядом рабочее место Вики, Марина Григорьевна вдруг заметила сложенные пополам тетрадные листы, выглядывающие из стопки учебников.
Почему-то ей показалось, что это были именно те листы, на которых дочь
что-то писала перед сном и которые, как показалось Марине Григорьевне, не хотела показывать, старалась прикрыть их рукой.

«Зачем я беру их? И время уже „поджимает“ надо выходить из дома». Марина Григорьевна разворачивает и бегло просматривает страницы. «Наверное, это тот самый рассказ, который Вика хотела мне прочитать вчера. Хотя, нет, у того название было другое. А это тогда что...» Она неожиданно поймала себя на мысли, что никогда раньше ничего не брала с рабочего стола дочери тайком, без её согласия. И даже мысли такой не было, чтобы проверить тетрадки, блокнотики,
какие-то записные книжицы в отсутствие Вики. Марина Григорьевна знала, что дочь ведёт личный дневник, но считала, что это всё ненужное баловство. Правда, относилась к этому занятию дочки спокойно: пишет и пишет, главное, чтобы училась хорошо и слушалась родителей.
«...А это тогда что: сочинение, дневниковая запись, новый рассказ?» Марина Григорьевна не могла объяснить себе в эти минуты, почему она не положила обратно листки, а стала внимательно читать. Скорее всего, её заинтересовало и заинтриговало название: «Убить человека».
«И это написано Викой?!» Марина Григорьевна забыла о работе.
У Вики был хороший почерк, но эти листки были исписаны неровными буквами, строчки часто «соскальзывали» с линии, некоторые слова — сокращены. Видимо, Вика спешила запечатлеть на бумаге свои мысли, она боялась упустить
что-то очень важное. Её, бесспорно, переполняли эмоции, потому что такое количество восклицательных знаков в предложениях говорило о том, что человек изливал душу «на одном дыхании». Искренне увлечённая выплёскиванием чувств, девочка писала сразу набело, исправлений в тексте почти не было.
* * * *
«Ура! Мой рассказ объявили лучшим! Сам Владлен Степанович поздравил меня и пожелал дальнейших творческих успехов. Я
лечу-у-у! Быстрее, быстрее домой, чтобы сообщить эту радостную новость маме!
До самого подъезда я буквально „скакала как коза“. Вбежав в квартиру, прямо с порога крикнула:
— Мамочка! Я получила первое место на литературном конкурсе! Мой рассказ выиграл! Ой, нет, я выиграла со своим рассказом! Я тебе его сейчас прочитаю!..
................................................................................................................................
...— Иди! — с вызовом сказала мама. — Зачем тогда было отрывать меня от дел?!
Я вышла из комнаты, быстро оделась и выскочила на лестничную площадку. Тихо щёлкнул дверной замок. Одновременно в квартире раздался громкий телефонный звонок и мамино
„Ал-ло! Приве-е-ет, дорогая“...
Почему? За что?! Откуда между нами такое непонимание?! Когда я училась в пятом классе, мама вместе со мной читала „Маленького принца“
Сент-Экзюпери и говорила, что эта книга могла бы стать бесценной уже благодаря только одному предложению: „Самая большая роскошь — это роскошь человеческого общения“. А ещё мама говорила, что известный советский фильм „Доживём до понедельника“ мог бы стать гениальным тоже только
из-за одной фразы одного из главных персонажей: „Счастье — это когда тебя понимают“.
Я не плакала, слёзы сами лились.
Если бы я была в поле или в лесу, или на другой планете, одна, я разревелась бы в голос. Я кричала бы так, чтобы вся земля содрогнулась от моих воплей, чтобы она, носящая меня на себе, знала, к а к мне больно и страшно от того, что меня не понимает, не слышит, не чувствует или... не любит моя мама!
Я не понимаю, может быть, я правда не понимаю, как получается, что мама не видит, как мне нужно с ней поделиться своей радостью или печалью, как мне нужно её внимание, её совет! Я никогда не замыкалась в себе, но сейчас я вижу, что маме совершенно не нужны мои „душевные излияния“, потому что она занята
чем-то другим,
чем-то очень важным для себя. А я? Я же её дочка! Я очень её люблю!
Мне хочется, глядя ей в глаза, спросить: „Мама, ну почему ты стала ко мне такой невнимательной, чёрствой и бездушной?! Почему ты на первое место ставишь мои чистые руки и развешенные на плечики вещи? Почему ты думаешь, что если я спокойно сяду и ровным голосом зачитаю тебе то, что я так старательно писала, это будет хорошо?! Почему ты решила, что
я всё делаю неправильно, а правильно — это только
по-твоему?! Почему, мама? Сколько раз я, приходя домой, пыталась рассказать тебе о том, что произошло у меня в школе, в кружке, о том, что я думаю? Знаешь, многие родители жалуются друг другу на то, что их дети становятся скрытными, не делятся с ними никакими новостями, мыслями. А у меня всё наоборот. Почему, мама?! Если
что-то (кроме немытых рук и невытертой обуви) не так с моей стороны, скажи! Если ты считаешь ниже своего достоинства обсуждать со мной
какие-то темы, вообще говорить со мной, значит, ты меня не любишь?!“
Как мне объяснить ей, что она меня мучительно, медленно убивает?! Может быть, мама думает, что я ещё слишком мала, чтобы разговаривать на взрослые темы? Она ошибается! Или она ошибается в выборе этих тем.
Иногда в моей голове роятся чудовищные мысли. Например, что я не должна иметь детей. На земле существует множество законов природы. Есть и свои законы у генетики. Вот я и думаю, раз у мамы есть ген нелюбви или непонимания к своему ребёнку, то он может передаваться из поколения в поколение. А вдруг он передастся моему ребёнку или ребёнку моего ребёнка?! Я не хочу, чтобы мои дочь или сын относились бы к своим детям так же, как сейчас ко мне относится мама. Мне хочется крикнуть ей: „Ты убиваешь не только меня, но и моих детей!“
А вдруг я преувеличиваю? Но что же мне делать? Как найти с мамой общий язык? Уйти, уехать из дома навсегда? Куда?! Мне надо закончить школу. Поговорить с ней? Но она не хочет меня слушать! Она хочет быть только моей «нравоучительницей». Ей не нужен диалог со мной, ей нужен монолог для меня. Я ничего не могу сделать, потому что не знаю, чтo делать! А мама?! Вдруг она знает, что делает? Неужели я не нужна ей?! Она... хочет меня... убить? Убить своим равнодушием. Самым страшным на земле человеческим оружием».
* * * *
У Марины Григорьевны дрожали руки. Последние слова она прошептала вслух. Не помня, как вышла из дочкиной комнаты, она, словно робот, получивший непонятное задание, не могла сообразить, что делать. На работу она уже опоздала, но вычислить насколько — не могла. Пытаясь собраться с мыслями, Марина Григорьевна
что-то надела на себя,
что-то взяла в руки, открыла входную дверь и медленно стала спускаться с лестницы.
«Это обо мне. Это обо мне. Господи! Это же написала моя дочь! Что делать? Надо идти на работу. Нет, я не могу. Я ничего не соображаю. Но где же Вика? Почему она так рано ушла в школу? А вдруг она не в школе? Вика! Вика...»
Школьной сумки на месте не оказалось, сменной обуви тоже. Значит, Вика в школе? И всё же Марина Григорьевна позвонила завучу. Они были знакомы раньше: до переезда в новый район жили в старом, в одном доме.
Вика была в школе.
Марина Григорьевна вернулась в квартиру, позвонила в отдел и сказала, что не придёт сегодня на работу, неважно себя чувствует.
Она была полностью «выбита из колеи»: осуществляла
мучительно-бессознательные метания по комнатам, совершала бесполезные телодвижения, в голове роились сумбурные мысли. Непонятно почему, появилось чувство страха. Особенное
какое-то, давно забытое ею. Марина Григорьевна вдруг представила, что Вика уехала навсегда, не сказав куда. Ею овладел физический, почти животный страх потерять дочь.
«...Неужели всё так серьёзно?! Да я просто паникую! Нет, нет, у неё, скорее всего, настроение переходного возраста, а я
из-за своей усталости поддалась этому настроению... Или нет? Какая, к чёрту, усталость! От чего я устала? От хождений по магазинам? От болтовни по телефону с наскучившими давно приятельницами и приятелями? От вечного ожидания мужа из командировок? От чего?» Марина Григорьевна вошла во вкус философских размышлений. «Поеду к маме. Поеду сейчас к маме. Зачем? Затем. Мне надо с ней поговорить...»
* * * *
Над городом сплошное серое небо: нависли тяжёлые облака, по улицам носится порывистый ветер и упорно не желает прекращаться холодный
снего-дождь. Над головами непоседливых горожан — разных конфигураций и расцветок зонтики. Быстро перемещаясь со своими хозяевами по городу, они слегка скрашивают унылость осеннего города.
Марина Григорьевна возвращалась домой. После разговора с матерью на душе у неё было также серо и холодно. Мать во всём винила дочь, не внучку. Она говорила резко, порой, беспощадно.
— Ты что, образцовую модель послушания хочешь вырастить? Что ты делаешь с Викой? Кого ты из неё делаешь?
Робота-послушника? Ты же не разговариваешь с ней совсем. Ты отдаёшь команды, приказы, распоряжения, ты указываешь дочери на одни лишь недостатки. А что хорошего ты ей говоришь?! О чём ты вообще с ней беседуешь, если такая форма общения присутствует в твоём доме?!
Она не могла возразить, сидела молча, слушала и вдруг расплакалась.
Чем ближе подходила женщина к квартире, тем сильнее её охватывала тревога. Марина Григорьевна не знала, что скажет Вике. Неужели она действительно разучилась
разговаривать со своим ребёнком?
Войдя в прихожую, Марина Григорьевна поняла, что дочери ещё нет. И
как-то особенно болезненно восприняла сейчас пустые плечики на вешалке, лежащую на обувной тумбочке щётку и смешно поставленные (навстречу друг к другу) домашние тапочки, синие с красными сердечками, любимые Викины «домашние друзья», как она их называла. Из кухни вальяжно выплыл кот, издал
какой-то странный звук, видимо, приветствия, и лёг на «красные сердечки». Женщина приласкала пушистую спинку. Кот удивлённо проследил за её рукой, замурлыкал, выгнул шею, требуя уж заодно почесать всё, что можно.

Удивительно, но пока Марина Григорьевна гладила шёлковую шёрстку, она немного успокоилась. Но это было удивительным лишь для неё, потому что она не умела или не привыкла общаться с братьями нашими меньшими, и не верила, что они одним только своим присутствием помогают людям снять напряжение, усталость, что они могут изменить настроение в лучшую сторону, если человек просто погладит, поговорит с самыми искренними и бескорыстными хранителями домашнего очага.
— Васька, пойдём, поедим, я есть хочу. А ты? — Кот
что-то ответил. — Вот, Вася, через тебя я научусь разговаривать с миром, — грустно сказала Марина Григорьевна.
Войдя в детскую, Марина Григорьевна присела на тахту, перечитала дочкин рассказ и незаметно уснула, свернувшись калачиком, не выпуская из руки тетрадные листки. В ногах лежал другой «калачик» — кот.
«Ви-и-и-ка-а-а!» — закричала мать и проснулась.
Ей приснился страшный сон: как будто бы дочь позвонила ей на работу и сказала, что она сейчас собирает вещи и уходит из дому навсегда, и чтобы её не искали. Женщина пыталась уговорить дочку подождать, пока она не придёт с работы, чтобы переговорить, обсудить всё, она просила дочь не горячиться, не делать поспешных выводов, но Вика была неумолима. Марина выскочила из института, побежала домой. Бежать было очень трудно, она изо всех сил переставляла ноги, отчаянно помогая себе руками, наклоняясь всем корпусом вперёд, но двигалась очень медленно. Она боялась не успеть застать дочь дома, боялась не увидеть её. Она вдруг отчётливо представила себе
навсегда опустевшую детскую, из которой не слышно больше никаких звуков, не улавливается больше никаких запахов; во всей квартире нет признаков присутствия дочери, не попадаются на глаза «домашние друзья», не звонят подружки, не звонит «прикольный мальчик Лёня», который называет Вику не иначе, как «Виктория Евгеньевна»...
Из последних сил передвигаясь в пространстве, уже приближаясь к подъезду дома, Марина Григорьевна отчаянно закричала
«Ви-и-и-ка-а-а!» и проснулась.
Но крика никто не слышал. Она кричала во сне.
Сидя на краю тахты, положив локти на колени, Марина Григорьевна тихо плакала.
* * * *

Вика пришла домой в шесть часов, после факультатива. В квартире было темно и беззвучно. «Мама ещё на работе». Девушка разделась, прошла на кухню и вдруг насторожилась, услышав непонятные звуки, похожие на всхлипывания. «Радио? Телевизор? Соседи? Кто это?» Вика заглянула в большую — родительскую — комнату. Никого. Со странным чувством подошла к своей, тихо открыла дверь и увидела маму, дрожащими руками сжимавшую тетрадные листы, на которые
быстро-быстро капали крупные слёзы.
— Мама! Мамочка! Что с тобой?! Что случилось?! Ты... плачешь... — Вика так растерялась, что не знала, о чём и подумать. Она так редко видела маму плачущей!
— Ви-и-и-ка, доченька, — Марина Григорьевна вдруг заплакала в голос, — я знаю, я всё знаю... это ты про меня написала... Не сердись, пожалуйста, что я прочла... Вика! Ты, правда, так думаешь?! Ты считаешь, что я такая плохая... — Она обняла дочь и, уткнувшись ей в шею, всё проливала горькие слёзы вперемежку с причитаниями.
— Мама, ну что ты, ну, не плачь, пожалуйста, я не сержусь, мама. Ты — хорошая, моя мамочка, ты самая хорошая, просто... просто ты иногда мимо меня проходишь.
— Вика, прости меня.
— И ты прости. Не читай больше этот рассказ. Я его выброшу.
— Не буду.
* * * *
Природа всегда реагирует на человеческое настроение. Или наоборот? А может быть, всё так взаимосвязано, что реагирование ведётся с двух сторон одновременно? Может быть. И даже наверняка.
Редкий безоблачный ноябрьский день. Голый, без листвы, город, величественный и строгий, красив, как никогда. По широкой улице под ручку идут две симпатичные женщины: мать и дочь. Ветер развевает длинные волосы на неприкрытой голове девушки и ерошит короткую стрижку взрослой женщины. Они о
чём-то безостановочно говорят, жестикулируют, смеются. Создаётся впечатление, что они только что встретились после длительной разлуки.
Они так похожи! Глаза, жесты, голоса, походки... Даже стиль в одежде! Как они похожи — Марина Григорьевна и Виктория!
«Виктория»... «Победа»!
 Опубликовано на сайте Поле надежды (Afield.org.ua) 14 сентября 2007 г.
Опубликовано на сайте Поле надежды (Afield.org.ua) 14 сентября 2007 г.
 — Так, ты не кричи,
— Так, ты не кричи, 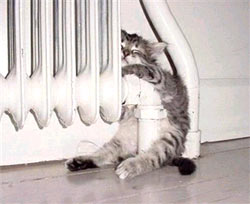 Марина Григорьевна, положив трубку после получасового разговора с тётей Леной, не спеша направилась на кухню: настало время ужина. Вика ещё не вернулась из школы, муж — из очередной командировки. Старый кот развалился у батареи, вбирая в себя тепло чугунного друга.
Марина Григорьевна, положив трубку после получасового разговора с тётей Леной, не спеша направилась на кухню: настало время ужина. Вика ещё не вернулась из школы, муж — из очередной командировки. Старый кот развалился у батареи, вбирая в себя тепло чугунного друга. — Где ты так долго была? — Марина Григорьевна строго, но «без нажима», задала вопрос.
— Где ты так долго была? — Марина Григорьевна строго, но «без нажима», задала вопрос. «Зачем я беру их? И время уже „поджимает“ надо выходить из дома». Марина Григорьевна разворачивает и бегло просматривает страницы. «Наверное, это тот самый рассказ, который Вика хотела мне прочитать вчера. Хотя, нет, у того название было другое. А это тогда что...» Она неожиданно поймала себя на мысли, что никогда раньше ничего не брала с рабочего стола дочери тайком, без её согласия. И даже мысли такой не было, чтобы проверить тетрадки, блокнотики,
«Зачем я беру их? И время уже „поджимает“ надо выходить из дома». Марина Григорьевна разворачивает и бегло просматривает страницы. «Наверное, это тот самый рассказ, который Вика хотела мне прочитать вчера. Хотя, нет, у того название было другое. А это тогда что...» Она неожиданно поймала себя на мысли, что никогда раньше ничего не брала с рабочего стола дочери тайком, без её согласия. И даже мысли такой не было, чтобы проверить тетрадки, блокнотики,  Удивительно, но пока Марина Григорьевна гладила шёлковую шёрстку, она немного успокоилась. Но это было удивительным лишь для неё, потому что она не умела или не привыкла общаться с братьями нашими меньшими, и не верила, что они одним только своим присутствием помогают людям снять напряжение, усталость, что они могут изменить настроение в лучшую сторону, если человек просто погладит, поговорит с самыми искренними и бескорыстными хранителями домашнего очага.
Удивительно, но пока Марина Григорьевна гладила шёлковую шёрстку, она немного успокоилась. Но это было удивительным лишь для неё, потому что она не умела или не привыкла общаться с братьями нашими меньшими, и не верила, что они одним только своим присутствием помогают людям снять напряжение, усталость, что они могут изменить настроение в лучшую сторону, если человек просто погладит, поговорит с самыми искренними и бескорыстными хранителями домашнего очага. Вика пришла домой в шесть часов, после факультатива. В квартире было темно и беззвучно. «Мама ещё на работе». Девушка разделась, прошла на кухню и вдруг насторожилась, услышав непонятные звуки, похожие на всхлипывания. «Радио? Телевизор? Соседи? Кто это?» Вика заглянула в большую — родительскую — комнату. Никого. Со странным чувством подошла к своей, тихо открыла дверь и увидела маму, дрожащими руками сжимавшую тетрадные листы, на которые
Вика пришла домой в шесть часов, после факультатива. В квартире было темно и беззвучно. «Мама ещё на работе». Девушка разделась, прошла на кухню и вдруг насторожилась, услышав непонятные звуки, похожие на всхлипывания. «Радио? Телевизор? Соседи? Кто это?» Вика заглянула в большую — родительскую — комнату. Никого. Со странным чувством подошла к своей, тихо открыла дверь и увидела маму, дрожащими руками сжимавшую тетрадные листы, на которые